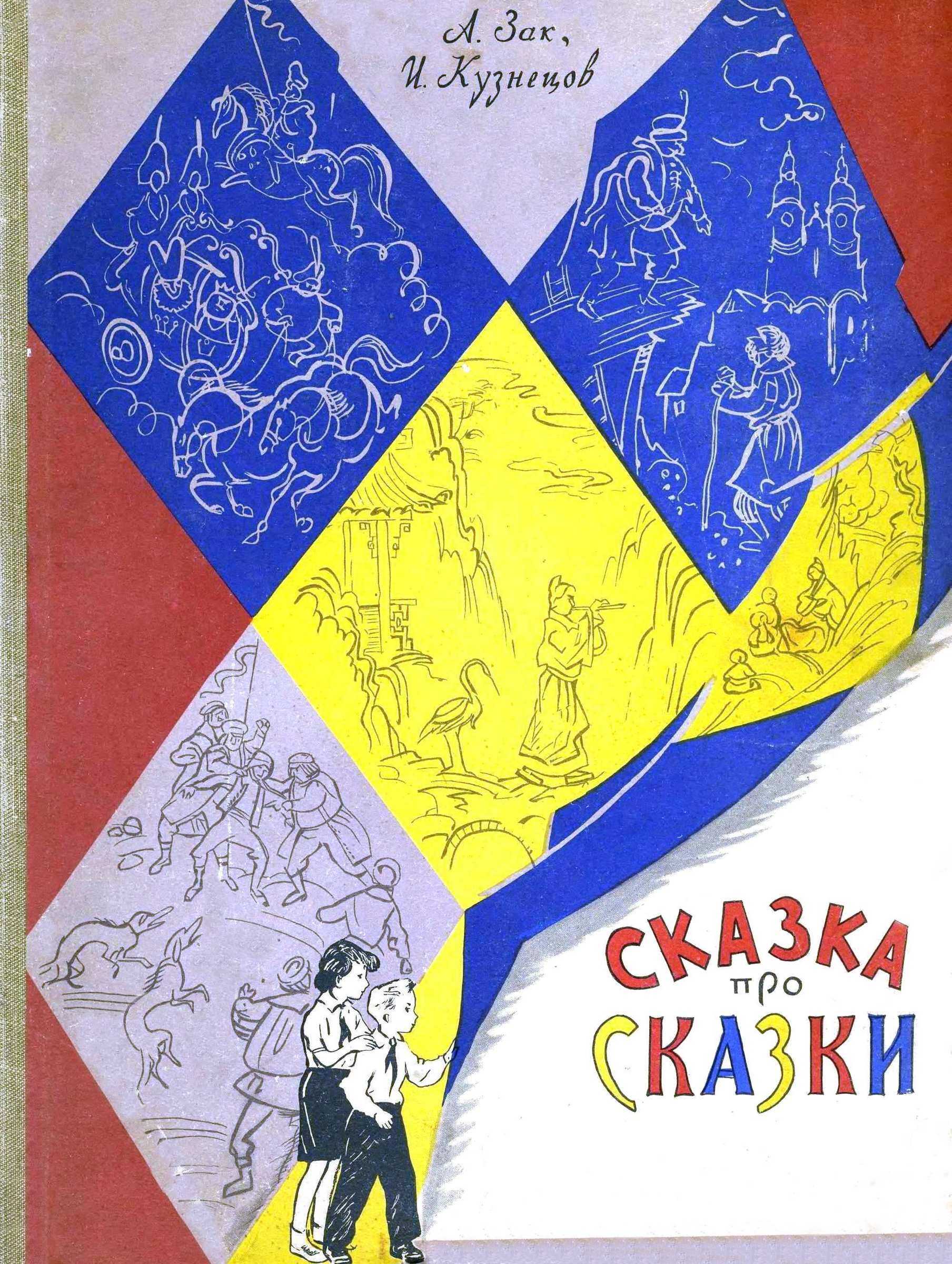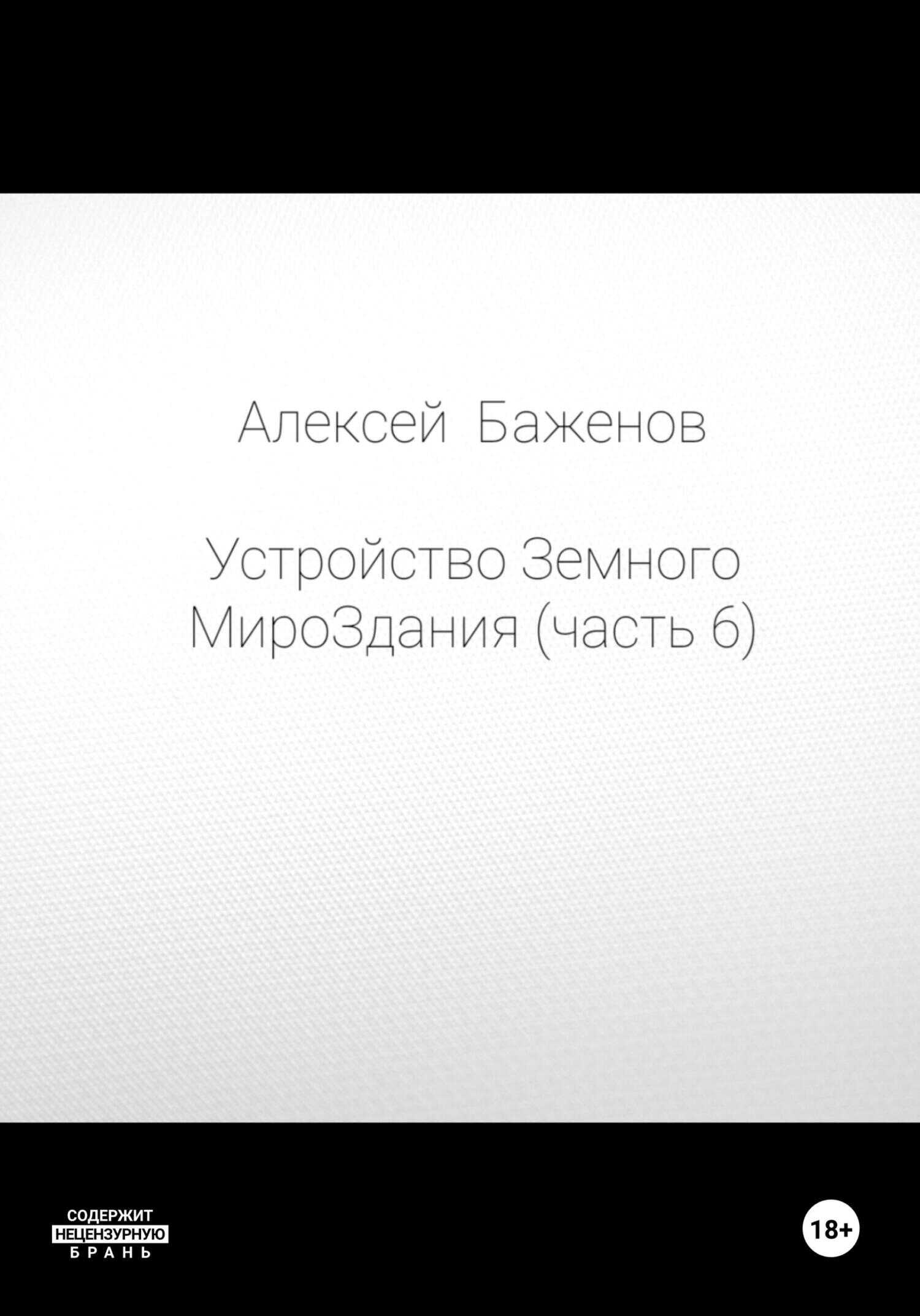Книга Язычник [litres] - Александр Владимирович Кузнецов-Тулянин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но за поселком, недалеко от домика, ее нагнал черный джип. Чуть обогнал, остановился. Арнольд Арнольдович опустил стекло и неожиданно изменившимся, подобревшим голосом позвал:
– Иди сюда.
Таня подошла.
– На-ка. – Протянул ей купюру в десять тысяч иен. Таня с опаской взяла – ей и не пришло бы в голову отказаться. Арнольд Арнольдович высунулся по плечо из окна, изловчился и шлепнул ее по заду, засмеялся и после этого уже не смотрел на нее, стал разворачивать машину.
Таня в тот же день поменяла иены на рубли и спрятала их в постели. Но Витёк под вечер, когда они, разгоряченные и уставшие, лежали на топчане, спросил угрюмо, не глядя на нее:
– Арнольд тебе деньги дал?
Она молчала.
– Я знаю, мне сказали… Не надо было их брать.
– Эх, Витенька. – Таня повернулась к нему, стала слегка поглаживать ему грудь. – Я простая баба. Взяла и взяла.
– Зря ты их взяла… Он унизить тебя хотел. Их бы вернуть. – Он осторожно убрал ее руку.
– Ну и братец у тебя… – сказала она в тон ему, укладывая руку обратно.
– Да какой он братец… Наши матери – родные сестры, но у них большая разница в годах… Они всегда чужие были. У Арнольда папаша знаешь какой был? Шишка… А мои… Не надо было тебе у него деньги брать…
– Витенька, Витенька. Все мы вернем, дай только придет время, все вернем.
Но тем же вечером была еще одна встреча, которая Таню повергла в еще большее уныние. И она видела, что Витёк тоже будто окунулся в муть, видела наползающую на него не брезгливость, а что-то другое, не лучшее, похожее пока еще, может быть, и не на отчуждение, а на тень отчуждения, надвигающуюся издали, и думала про себя: вот и все, вот и все, так-то быстро…
В дверь вечером постучали, Таня хотела выйти, но Витёк отстранил ее и вышел сам. Она услышала, как он сказал кому-то:
– Шел бы ты лучше…
Она захотела протиснуться, но Витёк, раздетый до пояса, стоял крепко, ширококостный, высокий, белобрысый, намеренно заслоняя вход, и будто все это: белобрысость, широкую кость, крепость, упрямство – всосал он из времени, из прошлого, из предков своих – кряжистых крепких мужиков, корчевавших пни и пахавших землю далеко-далеко отсюда в полузабытые времена. Таня присела, выглядывая на улицу из-под его руки, на уровне пояса Витька, увидела Мишу Наюмова.
– А-а-а… – скривил Миша улыбку, и в улыбке его были дыры вместо передних зубов, но он уже не в том находился возрасте, чтобы помнить об этом и стесняться, и он улыбался открыто и от щербатости казался безобидным, почти добродушным. – А-а-а… молодо-зелено…
Витёк смолчал, только еще больше наливался гневом. И Таня из-за его спины сказала со смехом, а она чуяла, что и как надо сказать, чтобы сломать нарастающее напряжение:
– Зелено-то зелено, а смотри, поспеет, такой фрукт будет.
Миша пошлепал себя по плеши.
– А я переспевший, значит?..
– Да ты, Миш, как кочерыжка жеваная… – Протиснулась наконец Таня, вышла чуть вперед и обок Витька.
– Я, может, и кочерыжка, – пробурчал Миша. – А ты-то сама кто… Да я не за этим пришел, – тут же добавил он, заметив, как Витёк подался вперед. – А вот за тем, что ты там говорила Бессонову, что это я ваш дом запалил.
– Остынь, Миша, не говорила я никому ничего подобного.
– Не говорила, а он вот по-другому считает, схватил меня за горло, душить начал, говорит, что я тебе мстил – дом поджег… А мне тебе мстить… – Он сплюнул под ноги, может быть, и без задней мысли, но получилось, что сплюнул слишком презрительно. – Может, ты сама и подожгла? Курила, бросила бычок, и загорелось.
– Слушай, Миш, двигай отсюда, а то теперь я тебя за горло возьму, – сказал Витёк.
Миша опять сплюнул и, больше ни слова не сказав, ушел, но тень его осталась, она накрыла их домик, смрадная тяжелая тень, повергла обоих в молчание до самой ночи.
И даже потом, следующим днем, когда все закружилось, кажется, в прежней радости, она чувствовала эту тень. Но чувствовал ли ее он, если напустил на себя столько дури и столько смеха?
Они вдруг нагрянули к бабке Мане.
Старуха, ошалевшая, коротконогая, большая голова в косынке, крупное темное обветшалое лицо, а тельце маленькое, щуплое, и руки, ручищи, из этого тельца, из кофты – в стороны, носилась по двору, размахивая этими ручищами, ловила пеструю растрепанную курицу. Бабка неистово материлась, а курица, такая же старуха по куриным меркам, бегала от нее из одного угла в другой, тряся поникшим гребешком и загребая пыль покореженной беспалой лапкой.
Когда во дворе показались хохочущие Витёк и Таня, она совсем запыхалась, пошатывалась и слова не могла вымолвить, остановилась и только бессильно поводила руками. Внук и Таня как-то совсем уж вычурно, пьяновато хохотали над ней, так что и сама бабка отдалась чужому смеху, стала смеяться-хрипеть сквозь одышку. Витёк же, веселый, разбитной, кинулся к очумевшей курице, подхватил ее внезапно в одну руку, а другой рукой мимоходом, сильным резким движением отдернул пучеглазую хохлатую головку от туловища и отбросил обезглавленную птицу бабке под ноги, а головку куда-то в сторону, со двора. Старуха чуть не села наземь. Птица оцепенело полежала секунду-другую, будто соображая, что вот теперь-то ее убили, и наконец затрепыхалась, раскидывая в стороны густые бордовые капельки из обнаженного шейного огрызка.
– Чумовой! – выхрипела бабка. – Ирод! – Пошла на внука с кулаками. – Ты что исделал?!
Витёк, уворачиваясь, отступал и все так же хохотал.
– Клушку убил, ирод!..
– Клушку? А я думал, ты ее в суп ловишь… – Витёк, поняв, в чем дело, разошелся еще больше, хохотал, согнувшись, повернувшись к бабке спиной и выставив назад руку. Бабка била кулаками по его спине, пытаясь подпрыгнуть и достать голову. А Витёк вдруг выхватил из-за пазухи пол-литровую бутылку с прозрачной жидкостью, повернулся, дразняще пронес у бабки перед носом. Она же сперва виду не подала, что ее заинтересовал сосуд. Витёк, отстранив ее левой рукой, опять помахал перед глазами бутылкой.
– Баб Мань, так что же. А? Гульнем, что ли?
– Чумовой!..
Но бабка сникала. Наконец размякшую, матерившуюся, ее усадили на крыльцо, сунули в злые синюшные губы сигаретку, и губы проворно кинули сигаретку в уголок рта, втянулись, прикуривая от услужливого огонька. Глаза ее блуждали, плавали в пространстве, но вместе с тем блуждали вокруг бутылки, которую Витёк намеренно не убирал. И ругань ее скоро стала отвлеченной, безадресной, чтобы только сбыть уже ненужную злость. Наконец поднялась, поддала ногой пестрый трупик курицы.
– А ну-ка, Тань, щипли ее, коли так… Суп сварю. А яйца собаке отдам. – Вошла в дом, загремела там, будто двигала тяжелую мебель, стала опять выкрикивать в сердцах глухим голосом, как если бы с головой влезла в шкаф или сундук:
– Чумовой, что ж ты делаешь, не спросясь?! Прежде спроси, а потом делай. Что папаня твой, дуромщик, что сынок – одно яблоко чумовое… Ты прежде спроси, а потом делай!..
А чуть позже, сев на кухне за стол, бабка совсем успокоилась. Налили по стопочке, молча чокнулись, выпили, поели остывшей картошки, еще выпили, бабка помягчевшим голосом стала рассказывать про клушку, о том, как сначала ни одна из восьми куриц не садилась на яйца, а потом села, да самая старая. И пока бабка набрала для нее двадцать одно яйцо, несколько штук протухло, и бабка опять добирала по новой. Клуша тем временем устала от сидения, стала дичать, слетать с яиц. Тогда бабке пришлось накрывать ее корзиной и два раза в день выпускать поесть-попить. И еще несколько яиц старая птица потоптала. Но вот все-таки не судьба завести цыплят – подоспел в самый раз внучек.
Водка незаметно и кончилась.
– Ну вот… – заворчала бабка, – а говорил: гульнем.
– Ну, баб Мань, – осторожно сказала Таня, – может, хватит?
– Ты меня учить будешь! Давай на бутылку, я сама схожу.
Таня с сомнением положила на стол деньги, бабка сгребла их, тут же подхватилась, решительная, застучала клюкой по порогу. Таня с Витьком притихли. Таня пересела к окну, на кровать, и потянула его за рукав.
– Иди ко мне.
– Бабка вернется, –